
Спокойствие и только спокойствие! Сколько раз на дню приходится повторять эту крылатую фразу из мультика про Карлсона! Или использовать ее эквиваленты – счет до десяти, известную комбинацию из пальцев в кармане… Вот только не всем и не всегда эти нехитрые приемы помогают успокоиться и не дать волю нервам. Куда чаще в ход идут валерьянка или что-нибудь покрепче. Посмотришь – а практически все знакомые пытались с помощью ну очень серьезных медпрепаратов поставить на место расшалившиеся нервы, опасаясь срыва. Оказывается, страхи эти не такие уж и беспочвенные. Накануне Дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, мы побеседовали с районным психиатром Владимиром Гайдобой.

– Владимир Анатольевич, бытует мнение, что в последнее время люди все больше страдают от различных психических заболеваний. Так ли это?
– Увы, для подобных утверждений есть все основания. У нас, к примеру, диспансерная группа увеличивается с каждым годом в среднем на пятьдесят человек. В нее входят люди, у которых течение заболевания приобрело хронический характер, а также пациенты, которые не могут без помощи специалиста справиться с так называемым пограничным состоянием. Конкретных цифр называть не стану – они не отражают реального положения вещей.
У нас сложился стереотип, что психбольной – это человек, который кричит на улице всякие глупости и машет при этом руками, видит чертей или слышит голоса. На самом деле таких единицы. Обычно те, кто нуждается в помощи психиатра, производят впечатление замкнутых людей – они погружены в мир болезненных переживаний, но вот к врачу не обращаются. К сожалению, у нас принято считать посещение психиатрического кабинета чем-то зазорным. Люди, нуждающиеся в квалифицированной помощи, вместо того чтобы прийти и получить ее, пытаются самостоятельно справиться с недугом. Это в корне неправильная, нерациональная позиция. Одно дело – употреблять препараты по совету знакомых и совершенно другое – если их назначит опытный врач, располагающий целым арсеналом средств. Не стоит думать, что, посетив психиатра, вы испортите свою биографию. Сегодняшние врачи отошли от позиций советской психиатрии. Человек обращается, получает помощь и уходит. Никто не заставляет его постоянно наблюдаться.
– Какие же болезни косят наши ряды?
‚Äì –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≤ –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–µ —É–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–æ–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏–µ, –∫–∞–∫ –ø—Å–∏—Ö–∑–∞–±–æ–ª–µ–≤–∞–Ω–∏–µ. –í –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑—É–µ—Ç—Å—è —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω ¬´—Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–æ –ø—Å–∏—Ö–∏–∫–∏ –∏ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—謪. –Ý–∞–∑–ª–∏—á–∞—é—Ç—Å—è —Ç—è–∂–µ–ª—ã–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞ –∏ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã–µ, –Ω–µ–≤—Ä–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ, —Å–∏–º–ø—Ç–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å —É–º—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –æ—Ç—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–µ—Å–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç–∞ –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –õ–∏–¥–∏—Ä—É—é—Ç —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –Ω–µ–≤—Ä–æ–∑—ã.
–ù–µ–≤—Ä–æ–∑ ‚Äì –ø—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ, –∏–∑–ª–µ—á–∏–º–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ. –û–Ω–æ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ–º —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å–æ–≤ –∏—Å—á–µ—Ä–ø—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–µ—Å—É—Ä—Å –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã. –Ý–µ—Å—É—Ä—Å —ç—Ç–æ—Ç —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Å–≤–æ–π. –û–Ω –∑–∞–≤–∏—Å–∏—Ç –æ—Ç –≤–Ω–µ—à–Ω–∏—Ö —Ñ–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ ‚Äì –æ–±—Ä–∞–∑–∞ –∂–∏–∑–Ω–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, —Ä–∞–±–æ—Ç—ã, –Ω–æ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ ‚Äì –æ—Ç –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫ –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–Ý–∞–Ω—å—à–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–ª —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å—ã —Ä–µ–¥–∫–æ ‚Äì –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —Ä–∞–∑ –≤ –≥–æ–¥. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –æ–Ω –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –∂–∏—Ç—å –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å–∞. –ï–≥–æ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ü–∏—Ä—É—é—Ç –∑–∞–≤—ã—à–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –∏ –¥–æ–º–∞, –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π —Ç–µ–º–ø –∂–∏–∑–Ω–∏, –ø–µ—Ä–µ–≥—Ä—É–∑–∫–∞ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–µ–π, –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ—É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–º –¥–Ω–µ, –º–µ–ª–∫–∏–µ –±—ã—Ç–æ–≤—ã–µ –Ω–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ. –ü–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–ø–∞—Å –ø—Ä–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É–º–µ–Ω—å—à–∞–µ—Ç—Å—è, –∏ —É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç—Å—è –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã —Å –ø—Å–∏—Ö–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ–º. –Ý–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, –º—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ–º —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å—É —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º—ã –∑–∞—â–∏—Ç—ã ‚Äì —à–∏—Ä–æ–∫–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã —Ç–∞–∫–∏–µ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω—ã, –∫–∞–∫ –≤—ã—Ç–µ—Å–Ω–µ–Ω–∏–µ, –∑–∞–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ, –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –ø—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞—Ç—å –æ–±–∏–¥—á–∏–∫–∞, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ —Å–µ–±—è –Ω–∞ –µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –≤—ã—Ç–µ—Å–Ω—è–µ—Ç –æ–±–∏–¥—É —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω—ã–º –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ–º, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏—â–µ—Ç –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—É –≤ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞—Ö. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç—å —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º–æ–≤–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π.
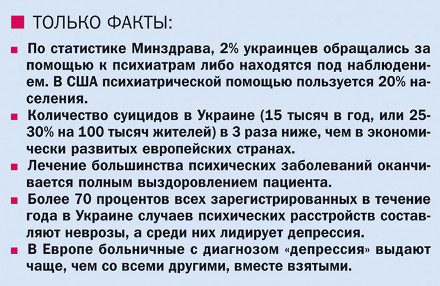
– А кого можно отнести к группе риска?
– Женщины более устойчивы к эмоциональнымперегрузкам, чем мужчины. Сильный пол скрывает свои переживания – мужчины не плачут! – однако серьезные психические расстройства чаще наблюдаются как раз у них.
–ê –≤–æ—Ç –æ—Å–æ–±–æ–π –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤ –æ—Ç –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–∂–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –ï–µ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –∏—Å–∫–∞—Ç—å –≤ —Ç–∏–ø–∞—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∞, –≤ –∞–∫—Ü–µ–Ω—Ç—É–∞—Ü–∏–∏ –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–£ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã –µ—Å—Ç—å —Å–≤–æ–π –Ω–∞–±–æ—Ä —Ñ–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ —Ä–∏—Å–∫–∞. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è —Å —è–≤–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∞–º–∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Ä–∞—Å—ã. –û–Ω –º–æ–ª—á–∞–ª–∏–≤, –∑–∞–º–∫–Ω—É—Ç, —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–Ω –∫ —Å–µ–±–µ, –Ω–µ –ª—é–±–∏—Ç —Å—É–µ—Ç—ã, –≥—Ä–æ–º–∫–∏—Ö –∫—Ä–∏–∫–æ–≤, —Ä–µ–∑–∫–∏—Ö –∂–µ—Å—Ç–æ–≤. –¢–∞–∫–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —É—Ç—Ä–∞—Ç–∏—Ç –¥—É—à–µ–≤–Ω–æ–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ, –µ—Å–ª–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –≤ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç—Ä–µ–±—É–µ—Ç –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–π –∏ –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–π ‚Äì –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—è—â–µ–π –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –û–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ —Å–º–æ–∂–µ—Ç —Å –∫–µ–º-—Ç–æ –∑–∞—Å–º–µ—è—Ç—å—Å—è, —Å –∫–µ–º-—Ç–æ –ø–æ–ø–ª–∞–∫–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –ø–æ—Ä—É–≥–∞—Ç—å ‚Äì –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –∑–∞–±—ã—Ç—å –æ–± —ç—Ç–æ–º. –ê –≤–æ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω –∫ –≤—Å–ø—ã—à–∫–∞–º —ç–º–æ—Ü–∏–π, –ª—é–±–∏—Ç –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ, –±—É–¥–µ—Ç —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –µ–º—É –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –±—É–º–∞–∂–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π, —Ç—Ä–µ–±—É—é—â–µ–π —É—Å–∏–¥—á–∏–≤–æ—Å—Ç–∏ –∏ —Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏—è. –Ý–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞ –≤ —Ç–∏–ø–∞—Ö –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–∞ –≤ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏. –û–¥–Ω–∏ –ª–µ–≥–∫–æ –º–æ–≥—É—Ç –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å —à—É—Ç–∫—É-–ø—Ä–∏–±–∞—É—Ç–∫—É, –ø–æ–π—Ç–∏ –≤ –ø–ª—è—Å, –∑–∞—Ç—è–Ω—É—Ç—å –ø–µ—Å–Ω—é. –î—Ä—É–≥–∏–µ —Å–∏–¥—è—Ç –∏ –º–æ–ª—á–∞—Ç, –Ω–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –≥–ª—É–ø–µ–µ –∏–ª–∏ —É –Ω–∏—Ö –±–µ–¥–Ω–µ–µ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π –º–∏—Ä. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤—Å–µ –º—ã ‚Äì –æ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ, —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Å–≤–æ–∏ —Å–∏–ª—å–Ω—ã–µ –∏ —Å–ª–∞–±—ã–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –∏ –Ω–∞ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–∏ —Ä–µ–∞–≥–∏—Ä—É–µ–º –ø–æ-—Ä–∞–∑–Ω–æ–º—É.
– А есть ли среди Ваших пациентов дети?
‚Äì –í –ø—Å–∏—Ö–∏–∞—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å–ª—É–∂–±–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ–ø–æ—Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –¥–µ—Ç—å–º–∏. –í –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –ø–∞—Ü–∏–µ–Ω—Ç–∞—Ö, —É–≤—ã, –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ –Ω–µ—Ç ‚Äì –¥–µ—Ç–µ–π –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ—Ç–µ–Ω. –°—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö ‚Äì –∫–∞–∫ —Ä–µ–±—è—Ç–∏—à–∫–∏ —Å –≤—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–∞—Ç–æ–ª–æ–≥–∏—è–º–∏, —Ç–∞–∫ –∏ —Ç–∞–∫–∏–µ, –¥–∏–∞–≥–Ω–æ–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω –≤ –¥–æ—à–∫–æ–ª—å–Ω–æ–º –∏ —à–∫–æ–ª—å–Ω–æ–º –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ. –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Ä–∏—Å–∫ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è —Ç–æ–π –∏–ª–∏ –∏–Ω–æ–π –±–æ–ª–µ–∑–Ω–∏ —Å–≤—è–∑–∞–Ω —Å –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–Ω—ã–º –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–æ–º. –ó–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –¥–µ—Ç–∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–µ–±—è –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –≤ —Å–∞–¥–∏–∫–µ ‚Äì –æ–Ω–∏ –Ω–µ –º–æ–≥—É—Ç —á—Ç–æ-—Ç–æ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, –∏—Ö –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã. –ß–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —É—Å—É–≥—É–±–ª—è–µ—Ç—Å—è —Ç–µ–º, —á—Ç–æ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è—é—Ç –∫ —Ç–∞–∫–æ–º—É –º–∞–ª—ã—à—É —Ç–µ –∂–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è, —á—Ç–æ –∏ –∫–æ –≤—Å–µ–º –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º –¥–µ—Ç—è–º, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –∏—Ö –æ–Ω –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç, –µ–≥–æ –æ–±–∏–∂–∞—é—Ç. –Ý–µ–±–µ–Ω–æ–∫ –≤ –æ—Ç–≤–µ—Ç –∫–∞–ø—Ä–∏–∑–Ω–∏—á–∞–µ—Ç, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –¥–∞–∂–µ —Ä–µ—á—å –º–æ–∂–µ—Ç —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—Ç—å ‚Äì –º–∞–ª—ã—à –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –∫–æ–≤–µ—Ä–∫–∞—Ç—å —Å–ª–æ–≤–∞. –¢–∞–∫–∏–µ —Å–ª—É—á–∞–∏ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –æ—Ç–ª–∏—á–∞—Ç—å –æ—Ç –±–∞–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∑–∞–ø—É—â–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ë—ã–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–µ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—é—Ç—Å—è —Å —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–æ–º, –Ω–µ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞—é—Ç –µ–≥–æ ‚Äì –∏ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç –≤ —Å–∞–¥–∏–∫, –≥–¥–µ –∫ –Ω–µ–º—É –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è—é—Ç —Å—Ç–∞–Ω–¥–∞—Ä—Ç–Ω—ã–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –ö –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—É, –º–∞–ª—ã—à, –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ–±—ã —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —É —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞, –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ —Å –∫—É–ª–∞–∫–∞–º–∏ –∏ –æ—Ç–±–∏—Ä–∞–µ—Ç, –∏ —Ç–∞–∫–æ–µ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –Ω–µ–∞–¥–µ–∫–≤–∞—Ç–Ω–æ–µ. –ê –æ–Ω, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É–Ω–∞—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª –æ—Ç –ø–∞–ø—ã —Å –º–∞–º–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –¥–µ—Ä—É—Ç—Å—è, –∏—Ö –º–æ–¥–µ–ª—å –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è. –í–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–∞ –Ω–µ–Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–º, –æ—Ç—Å–∞–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –µ–≥–æ, –≤—Å—è—á–µ—Å–∫–∏ –ø—Ä–∏—Ç–µ—Å–Ω—è–µ—Ç. –≠—Ç–æ —Å–ª–æ–∂–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç–∏, —Ç—Ä–µ–±—É—é—â–∏–µ –æ—Å–æ–±–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è, –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —É—Å–∏–ª–∏–π ‚Äì –Ω–æ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –±–æ–ª—å–Ω—ã–µ. –ò–∑ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –º–∞–ª—ã—à–∞ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –≤—ã—Ä–∞—Å—Ç–∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏ —É–º–Ω–µ–π—à–∏–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ù–æ —Å –Ω–∏–º –Ω–∞–¥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å.
– Легко ли быть психиатром?
– Не все могут работать психиатрами: очень высок прессинг со стороны пациента. Эта работа чревата быстрым психологическим выгоранием. Поэтому надо быть твердым, проницательным, культурным. Надо самообучаться, понимать людей и их слабости.
–ú—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ–º –∫–∞–∫ —Å –±–æ–ª—å–Ω—ã–º–∏, —Ç–∞–∫ –∏ —Å–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—ã–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏, —Å —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –±–æ–ª—å–Ω—ã–º–∏, —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—ã–º–∏. –ù–æ –Ω–∞—à–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –Ω–µ —Å–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫ –ª–µ—á–µ–Ω–∏—é –ø—Å–∏—Ö–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤. –ú—ã —Ç–µ—Å–Ω–æ –≤–∑–∞–∏–º–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤—É–µ–º —Å —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏ –≤ —á–∞—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ—Ñ–∏–ª–∞–∫—Ç–∏–∫–∏ –ø—Ä–∞–≤–æ–Ω–∞—Ä—É—à–µ–Ω–∏–π —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ø—Å–∏—Ö–±–æ–ª—å–Ω—ã—Ö. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞–µ–º —Å –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞–º–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, —Å —Å–æ—Ü—Å–ª—É–∂–±–∞–º–∏, –æ–ø–µ–∫—É–Ω—Å–∫–∏–º —Å–æ–≤–µ—Ç–æ–º, –≤–µ–¥—å –ø—Å–∏—Ö–±–æ–ª—å–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏ ‚Äì —á–∞—Å—Ç–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –¥–µ–∑–∞–¥–∞–ø—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã, –±–µ—Å–ø–æ–º–æ—â–Ω—ã –≤ –±—ã—Ç—É. –ö–æ–Ω—Ç–∞–∫—Ç–∏—Ä—É–µ–º —Å –∫–æ–ª–ª–µ–≥–∞–º–∏-–º–µ–¥–∏–∫–∞–º–∏. –ù–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Ç–µ—Å–Ω–æ–µ —Å–æ–¥—Ä—É–∂–µ—Å—Ç–≤–æ ‚Äì —Å –Ω–∞—Ä–∫–æ–ª–æ–≥–∞–º–∏, —Ç–µ—Ä–∞–ø–µ–≤—Ç–∞–º–∏.
–í—Ä–∞—á—É —Ç—Ä–µ–±—É—é—Ç—Å—è –≥–æ–¥—ã –∏ –≥–æ–¥—ã, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞—É—á–∏—Ç—å—Å—è –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—É—é –ø—Å–∏—Ö–∏–∞—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é –ø–æ–º–æ—â—å –∏ –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –º–µ—Ä–µ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å—Å—è —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –ø–µ—Ä–µ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏. –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–∏ –≤ –∫–æ–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –ø—Å–∏—Ö–∏–∞—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å–ª—É–∂–±—É, —Å–æ–∫—Ä–∞—â–∞—Ç—å —à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –≠—Ç–æ —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–æ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –æ–ø–∞—Å–Ω–æ –¥–ª—è –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞.
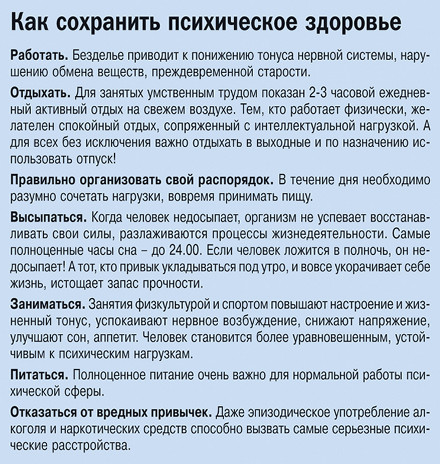
–ê–ª—å–±–∏–Ω–∞ –î–Ý–£–ñ–ë–ò–ù–ê, ¬´–û—Ä–±–∏—Ç–∞¬ª


